Шрифт:
Закладка:
Потом Дутр полчаса упражнялся с маленькими гантелями. Он подбрасывал их, ловил, правая рука, левая рука, опять правая. Ладони горели. На руках вздувались вены. Он давал себе маленькую передышку, выкуривал сигарету. В соседнем фургоне просыпалась Одетта. Людвиг тоже поднимался. Дутр слышал, как они перешептывались. Он прекращал занятия; ему хотелось плакать. Голубки волновались, били крыльями, взъерошивая перья. Он машинально доставал доллар и начинал его подбрасывать. Случалось, он забывал, зачем делает это, и смотрел, не понимая, на гордо восседающего орла или на деревенский профиль женщины по имени LIBERTY. В восемь Людвиг уходил, зажав в зубах сигару, и Дутр входил в фургон.
— Вот и мой бульдог, — встречала его Одетта. — Мог бы и поздороваться.
Она все тянулась, зевала, пока Дутр готовил шоколад; потом уходила за ширму, минут десять делала гимнастику. Дутр слышал, как она вздыхала, ворчала, стонала. Он намазывал масло на хлеб, а мать кричала ему из-за ширмы:
— Говори! Скажи хоть что-нибудь! Думаешь, меня эта гимнастика очень развлекает?
Она выходила, потная, полы халата развевались, обнажая ноги в синих прожилках, и сразу садилась за стол.
— Идиотизм, — говорила она с набитым ртом, — чем больше я занимаюсь, чтобы сбросить вес, тем больше хочется есть.
Она затягивала завтрак, развлекалась, долго разминая в пальцах сигарету. Смеялась тем самым грудным смехом, который сковывал Дутра.
— Нельзя, а я много ем, без конца курю, делаю все, что мне не положено, — говорила она. — А, к черту! Если слушать врачей…
Она понижала голос, говорила, будто по секрету:
— Знаешь, я ведь не всегда была такой старой, негодной шлюхой!
И она открывала «шкатулку с призраками», как сама ее называла. Там было полно фотографий, газетных вырезок. Крючковатым, как птичий коготь, пальцем она рылась в бумажном хламе.
— Гляди! «Берлинер тагеблатт»… «Дейли миррор»… «Фигаро»…
Статьи были обведены красным или синим карандашом. Все фотографии походили одна на другую — мутные, с резкими бликами вспышки, искажающими лица. На них Одетта представала то баядеркой, то султаншей, то маркизой, то испанкой. Нахмурившись, Дутр быстро пробегал взглядом фотографии. Одетта продолжала копаться в шкатулке, потом замирала с какой-нибудь вырезкой в руках, беззвучно шевеля губами.
— Все пойдет по-другому, — произносила наконец она. — Малышки согласны.
Дутр мыл посуду. Одетта работала, сидя на полу с карандашом в руках, и вполголоса приговаривала:
— Настоящее представление… Целый спектакль из трех или четырех действий… Вот этого твой отец никогда не хотел понять. Пантомима, театральное действо со сменой декораций, специальными эффектами. На одних фокусах сегодня далеко не уедешь.
День шел к концу. Людвиг учил Дутра обращаться с реквизитом, потом Дутр занимался один, под присмотром Владимира. Он старался не смотреть на веревку, которой столько лет связывали профессора Альберто. Она была сложена восьмеркой, с узлом посредине. Дутр бросал доллар, ловил его, делал вид, что прячет в левой руке, открывал правую ладонь… Владимир кивал головой, аплодировал.
— Грандиозно, — говорил он, мягко грассируя. Владимир полагает, что это гр-р-рандиозно…
Но это вовсе не было грандиозно. Это было из рук вон плохо. Дутр ожесточенно ругал себя и, стиснув зубы, начинал заново, лицо от напряжения сводила гримаса. Потом он садился рядом с Владимиром, угощая его сигаретой, иногда пытался расспросить: откуда он? всегда ли занимался этим делом? Владимир сплетал пальцы, зажимал руки между коленями.
— Нет воспоминания, — говорил он. — Война… Очень нехороший…
В другом конце фургона стоял верстак, на котором он с изумительной ловкостью мастерил разные мелкие штучки по чертежам Одетты.
— Почему ты не выступаешь вместе с нами? — спросил его как-то Дутр. — Ты такой ловкий!
Владимир наморщил лоб, и волосы упали ему на глаза.
— Запрещено, — выговорил он наконец. — Владимир… Страх…
— Чего ты боишься? Ты же знаешь, как все эти приспособления устроены. Ведь ты же сам их сделал.
Владимир вытер нос, уставившись на Дутра мутными глазами.
— Мнительность! — произнес он.
Но чаще они молча сидели рядом. Дутр ждал вечера, представления, своего маленького счастья. С восьми часов он болтался за кулисами, останавливался у дверей уборных, где гримировались артисты. По ту сторону занавеса он слышал шум голосов, смех, крики… Полутемный зал, лица, глаза, дыхание… Он хватался за декорации, так его притягивала эта пропасть, задыхался от волнения. Звучали духовые, толпа начинала ворочаться, утробно урчать, как огромное животное. И каждый вечер к горлу подкатывала та же тошнота, охватывал тот же панический страх. Тогда он проскальзывал в фойе, к лестнице, ведущей во второй ярус. Затерявшись среди моряков, девушек, разномастной публики, он забивался на галерку, устраивался в кресле и снова впадал в отчаяние при виде освещенной сцены. Он представлял себе, как стоит на ней — один-одинешенек, мишень для насмешек и презрительного свиста. Ладони делались влажными. Потом занавес поднимался, и он, прикрыв глаза, переносился в мир грез. Близняшки приветствовали публику. Он забывал обо всем. Он смотрел то на одну, то на другую и приходил в восторг от того, что не может их различить. Издалека, сквозь табачный дым, он видел две одинаковые белокурые головки, две настолько похожие фигурки, что одна казалась отражением другой. Их номер был задуман так, чтобы сконцентрировать внимание зрителей на этом фантастическом сходстве. Одна из сестер делала вид, что как бы смотрится в зеркало, обозначенное пустой деревянной рамой, а вторая копировала ее движения, становилась ее отражением в зеркале. Дутра это зрелище захватывало сразу, и когда Хильда — а может, Грета? — пересекала плоскость волшебного зеркала, чтобы присоединиться к своему второму «я», он с облегчением ощущал, как с его души падает груз.
Прочие номера его не интересовали. Неверным шагом он спускался в вестибюль; музыка доносилась до него сквозь туман. Он
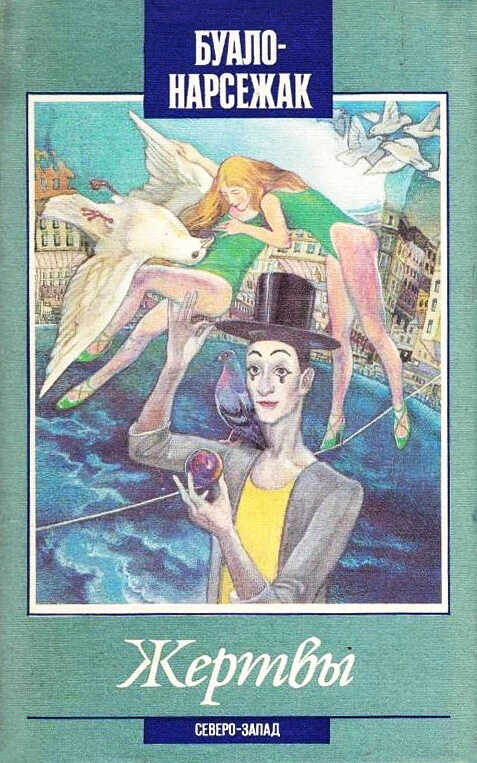
![Фокусницы [Куклы; Колдуньи] - Буало-Нарсежак](/uploads/posts/books/16780/16780.jpg)
![Убийство на расстоянии [Песенка, которая убивает] - Буало-Нарсежак](/uploads/posts/books/16779/16779.jpg)






